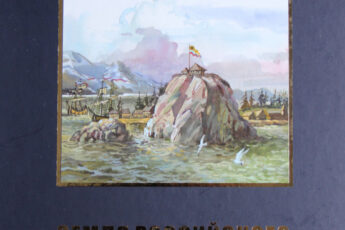Сад На себя открою шаткую калитку. Отведу руками виноградный лист да смету с дорожки спящую улитку. Соберу кизил. И груши удались. Ничего, что год опять без абрикосов, вымерзали и инжир, и розмарин. А сосед напротив всё с одним вопросом — мол, продай участок — и не он один. Всё бы деньги делать ушлым этим, резвым, не до грядок им, не до лопат. Я вчера тут поработал плоскорезом: знаешь, всё-таки полегче, чем копать, но плечо потом артритное заныло, под лопаткой колет, отдаёт в груди. Виноград бы обиходить надо было… Только жаль, себя нельзя омолодить. Сад обрежьте — что иначе скажут люди? Не поранься о секатор на крыльце. Ты выхаживай, когда меня не будет, персик сорта «Память об отце». Троицкое Деревня догорала в темноте. Мальчишка лет семи смотрел с пригорка, как дым сползал по склону и густел, въедался в ноздри, отдавал прогорклым: заборы там, внизу — из кизяка. Свой дом повыше. Повезло. …Румын когда-то, по курам расстрелявши два рожка, стащил горшок из печки, автоматом грозя: молчите, все вы — partisanen, и пятился, а сам косил глазами по сторонам: чего б ещё схватить? У тёти сын недужил — лихорадка. И бабушка в той комнате с кроваткой поставила в окно табличку: ТИФ, так шастать перестали. Офицер на улице нашёл сестрёнку Любу и сунул шоколад. А на лице — улыбка до ушей, аж видно зубы. И карточку достал и лопотал про dotter у соседей на квартире. Да фриц как фриц. Ну в форме. Без креста. Не то что эти, в вычурных мундирах, и с цепью на груди какой-то крест. …А матерей гоняли на работы: пахать, но хоть не на чужбине — здесь. Он помнит, бригадир помялся что-то в дверях и вдруг сказал: вас будут жечь. Воды — и на чердак! Скирду спалите, пусть дым затянет. Вон идут уже. А дальше — мамин голос: Витя, Витяааааа!.. И те, с цепями, во дворе соседском, и голоса на нашем и немецком: — На выход! — Schneller! На руках дитя. — Куда ж я с ним? Младенец… И блестя, откуда ни возьмись, в руке у фрица огромный нож. И малыша — на нож, подкинув в воздух. — Ну, теперь идешь? …Ему десятилетиями снится: соседку затолкали в строй — и к ним. Издалека уже тянулся дым. Хватают мать, и Любу рвут из рук. И оземь. Но бабушка успела: у земли ловила, проглотивши пыль и слёзы, пока невестку со двора вели. А вдоль дороги был густой овраг. И старший из племянников за руку в сплошную зелень сдёрнул — там, в кустах, сбежал по склону, но споткнулся, рухнул, катились с мамой вместе. Так и спас, пока другие с ведрами под крышей, в дыму, не видя этого, не слыша, водой плескали, потушить стремясь огонь, что подползал от сена, сбоку. Уже луна и звёзды. Никого: ни птицу не услышать, ни собаку. Зола и пепел. Лишь над головой кизячный дым. И слышен дальний бой. Он выживет. Он станет мне отцом. А я страшусь смотреть ему в лицо, когда дома дымятся в темноте, и убивают взрослых и детей. * * * Даны мне были мамины глаза густого цвета переспелых вишен. Нам говорили: ваши голоса не различить — одно и то же слышим. Одной и той же звуковой волной дыхание несёт, пока нас двое. Но этот разговор меня со мной в любой момент прервёт гудок отбоя. А дальше будет просто тишина, и не соприкоснуться голосами. Не голосить. Не плакать. Я одна, но я смотрю на мир её глазами. Песиголовцы Этот страх с малых лет знаю. Книжка та на мове – от мамы: вон выходят ночами з гаю люди с волчьими головами. Как по воду пойдёшь к речке, слева-справа шуршит сорго. Вроде дом твой и недалече, ну а если почуешь волка? Мама слышит своих старших, тёмный шёпот их о Волыни: тихо, тихо кажи! Нащо? Зачекай, не лякай дитину… У моей бы спросить свекрови – это после войны было — как жених захлебнулся кровью и нашёл в тех лесах могилу. А они чёрта с два сгинут. А они обойдут капканы — и воткнут топоры в спину, если помните про Галана. А они уползут в схроны да и пересидят где-то. Выйдут оборотни в погонах или даже при партбилетах. Матереют теперь, звереют, воют в городе и в деревне. Не таятся ни днём, ни ночью, и рисуют крюки волчьи. Не смотри, что они сами называют себя псами. Брешут, точно, да что толку? Видишь: волки — и есть волки. Кто щадил их и кто плодил их, столько лет охраняя норы? Кто им дал осквернять могилы? Кто им пули даёт и порох, смолоскипу и керосина? Хто бажав створити як краще? Тихо, тихо кажи! Нащо? Де загине твоя дитина? Двое Расслоение белой линии живота: вот и всё, что осталось ему от мамы. Он её, эту грыжу, заполучил, когда на руках свою мать носил от кровати к ванной. Он мне косы — в саду завидовали бантам, пианино тащил в шесть лет: на, учись, хотела? Он жену по врачам, а сам ни за что — куда там, да живот выпирает сильнее под майкой белой. И ещё один рядом был: на себе волок, помню только звёзды в глазах и морозный ветер. Хорошо, что сегодня, назавтра привёз бы в морг, скажет позже хирург, упустивший в вену катетер. Станет мужем, отцом хорошим, кто был хороший сын, тот, кто вынесет всё, в них и сила твоя, и правда — ты уже, Господь, подарил мне обоих мужчин, что носили меня на руках. И других не надо. «Яблочко» с выходом Сколько лет бы с детства ни минуло, а душе в разлуке не зачерстветь. Прогуляйся стеночкой Минною в одиночестве. Ветер с моря, камень горячий бел, съеден и туманом, и бурями. Слива-дичка зреет. Иди себе, знай, покуривай. Тюлькин флот на привязи мается. Цепи якорные заржавлены. Мачты держатся всеми пальцами за державное. Жить и жить бы здесь с мамой, с папою, а не так — от случая к случаю... Ежевикой сердце царапает боль колючая. Воробьи на стеблях цикория машут крыльями — ой, щекотно им. А у тебя самой вся история перелётная. Ты гуляй, покудова алый шар в тучи за маяк не закатится. Посиди на камне — да жаль, шершав, мнётся платьице. Птахи Господи, выдохну, дай мне знак. И он подаёт: посылает пару синиц на ветви ореха. Свищут, друг дружку кличут, и всё вдвоём, мечутся, словно латают в листве прорехи. В сквере больничном, который мне так знаком, вдвоём угнездились на лавочке папа с мамой. Сойки на пару явятся. Нелегко видеть твоё посланье о том же самом. Господи, их друг от друга не оторвать, если любой пичуге нужна пичуга. Господи, как я часто была неправа, что же теперь уповаю на знак, на чудо? Господи, подержи их в руке своей, прежде чем упорхнут к твоим высям горним: перепёлок средь терниев перекати-полей, что не бездомны, пока ещё держат корни. Блиндаж Да что же это, люди, как же так? Три русских школьника приходят в бундестаг и говорят про страшную войну. И в ней, войне, винят свою страну. Вчера не праздник был и не парад, а перелом, начало поворота: и в контрнаступленье Сталинград рванул орудиями, чтоб поднять пехоту. Об этом телевизор ни гу-гу, как будто мы тогда сдались врагу. И “Сталинград” никак не выговорит власть — как будто мы теперь готовы пасть. Зато про бундестаг — ажиотаж, про бредни о солдатах не спасённых. …А в Севастополе вчера нашли блиндаж времён второй геройской обороны. Бульдозер вскрыл: тут обновляли парк, заложенный вокруг мемориала. А в нём, внутри, всё сохранилось так, как было после месяцев атак, когда рвалось, пылало и стреляло. Своих детей, которые войну хотят понять, сюда приводят люди. Своих артиллеристов помянуть и рассказать про залпы их орудий по немцам, приходившим убивать, про выдержку и доблесть, чувство долга бойцов, ещё не знавших — отступать придётся нам, держа за пядью пядь, покуда в спины не задышит Волга. Ещё вдали не разглядеть рейхстаг. Ещё не скоро там взовьётся флаг. И Паулюс пока что не зашёл в его неназываемый котёл. Блиндаж на склоне как разверстый рот, как замерший во времени приказ. И в нём навечно сорок первый год, и каждый год, когда стреляют в нас. А школьники вернутся в Уренгой. Нет, их не проклянут и не осудят. Не скажут каждому: отныне ты — изгой, в музеи, к памятникам — больше ни ногой, в глаза смотреть не смей приличным людям. Но ведь они втроём не с потолка свалились на потребу бундестагу. Так чья руководящая рука им выправляла на проезд бумагу? Кто наставлял и кто слова вставлял, чтоб их произносили, выступая? Как незаметно подошли мы к краю: Великая О-те-чес-твен-на-я убита насмерть. Есть Вторая Мировая. В лесах, полях, болотах, блиндажах лежат не найденные до сих пор, лежат. Теперь, выходит, им лежать во лжи? Бульдозеры ломают блиндажи, и на горячий, на ревущий свет выходят все, кого на свете нет, поскольку были произнесены слова, что враг их и не думал убивать. Встаёт контуженный и насмерть обожжён, встаёт расстрелянный, заколотый ножом, и кто с ранениями, кто без рук, без ног — хрипят: не на того напал, сынок. И горек их вопрос, и страшен глас: ты сожалеешь об убивших нас? Мы не за то, сопляк, отдали жизни, чтобы за наших правнуков взялась вся кодла, что тоскует о нацизме, о свастике, эсэсовском кресте скулит, сапог вылизывая панский, и так же брешет яростно о тех, кто убивал в Донецке и Луганске. Когда они придут, ты так же сдашь и Сталинград, и Крым, и тот блиндаж? Дядя Скажи-ка, дядя самых честных правил — ты за моей спиной стоял вторым и, шаря в кошельке, вопрос поставил: не дорого ли, мол, мы взяли Крым? «Не по зубам клубника и черешня. Смотреть Бахчисарай-сарай-фонтан? Ну съездить отдохнуть — оно, конечно, но так себе. Куда ему до Канн...» Нет, я вчера вела себя не грубо и ни за что сегодня не виню. Не оставлять же за спиною трупы, пускай и пересчитывают зубы отчизне, как дарёному коню? Чтоб избежать желудочных вопросов, мы, так сказать, уроки повторим. Поведай дяде, Константин Философ, как в Сирию ходил ты через Крым. Азы забылись? Не молчи, Владимир, уже не до молчанья, вот те крест: напомни-ка наследникам, во имя чего ты брал за Анну Херсонес? Туманный колокол, промолви слово как отголосок замысла Петрова: зачем из пушек взятого Азова тебя отлили, чтоб поставить здесь? Суворову, Берсеневу, Мекензи, что основали город мой и флот, была бы непонятна суть претензий того, кто так вопросы задаёт. Прости, Казарский, их, прости, «Меркурий», потомков, отрицающих родство, слепых и ненасытных голотурий, урчащее утробой меньшинство. Не слушай, Пирогов или Тотлебен: у вас бомбят, опять идут на штурм, а в нашем веке подымают шум, что держатся лишь на воде и хлебе. Ахматова, скажи, ответь, Папанин, родные ваши в Крымскую войну дрались за деньги или за страну? За то, чтоб Крым и впредь остался с нами? Мне у родных и спрашивать неловко, но если уж начистоту и в лоб: скажи, мой дед Иван из Григоровки, зачем в двадцатом брал ты Перекоп? Здесь на Сапун-горе у обелиска не вздумайте у Вечного огня считать потери: не они — и близко сегодня в мире не было б меня. За всех бойцов, за партизан, десанты, что в ледяной воде на гибель шли, ответь-ка, дядя с кошельком — а сам ты что смог отдать бы для своей земли? За возвращенье к прежней общей жизни, за кровь, что в нас, пульсируя, течёт, за честь, за верность, за любовь к отчизне, За «Кузнецова» и за Апакидзе — да как вы смели предъявлять нам счёт? В ответе не за страх, а лишь за совесть не взяли, нет — мы возвратили Крым. Он вам не по зубам. Но вы готовьтесь: мы в зубы за подобные вопросы дадим — и если надо, повторим. Чувство дома Когда на нас спускают всех собак, взыскуя покаяния и плача, и наизнанку, словно абырвалг, историю страны моей иначат, шельмуют нас с оттягом и с посолом, я думаю о маме и отце: станочный папин вспоминаю цех и мамины призаводские школы. Они детьми увидели войну: бомбёжки, холод, голод, страх. И фрицы. Они ту пору до сих пор клянут, какое там — простить и примириться… И мама помнит бабушку в слезах, когда вернулся дед-связист из Праги со старшим сыном. Папа помнит, как другую бабушку спасли в крутом овраге, когда вели в германский эшелон, как дом горел, как выжгли всю деревню. Их призывают немцам бить поклон? Страна моя, откуда эти бредни? Бить будут нас! Да, будут. В гриву, в хвост. Смотри на них. Вот Виктор, вот Мария. Война их наградила в полный рост: ему — туберкулёз, ей — малярия, но радовались солнечной поре, когда страну отвоевали деды. Отец студентом на Сапун-горе встречал десятилетие Победы. В вечерней школе мама аттестат парням из заводских цехов вручала. Букет на выпускной великоват — не обхватить и в две руки. Начало семейной жизни согревало их: пусть общежитие, построят дом — и двушка. Всего-то скарба было на двоих: два чемодана, чайник и подушка. Живи, работай! Что за времена: растить детей и персики для внучки, идти домой не с пузырём вина, а с новой книгой каждую получку. И не его, и не её вина, что в одночасье рухнула страна, когда не о труде, а о деньгах людей вокруг призвали думать резко, и сразу стал первейший олигарх последний из директоров советских. Давно не слышно заводских гудков, и корабельный винт не пенит воду, и лишь тяжёлый мат крановщиков витает над разграбленным заводом. Наследье разом обратилось в прах, тут выжить бы, да как? Да хоть убейся. Коллеги умирали в отпусках бессрочных — лишь бы капал стаж для пенсий. А тот, кто выжил, молча в трюмы лез, жёг лёгкие волокнами асбеста на сухогрузах греческих: в ЕС таким судам не находилось места. Их тени всё стоят у проходной. Родители мои пока со мной. Не дай Господь мне снова испытать те дни, когда очнёшься вдруг со стоном: в чужой стране твои отец и мать, и родина отрублена кордоном. Я содрогаюсь, думая о маме: ей правда повезло с учениками: они её медсёстры и врачи — все те, кому теперь её лечить, но ни кровинки на её лице. Я беспокоюсь о своём отце: о каждом миокардовом рубце за каждый с мясом вырванный станок, за каждый цех, причал, за каждый док. Когда на части разрывают псы, страна моя — и на тебе рубцы. Когда мои пошли голосовать на референдум вежливого марта, отец отрезал: нет пути обратно. Да хоть солому есть, сказала мать. Мне кажется, ты всё ещё больна, очнувшись ото сна, моя страна. А вдруг наш дух пока ещё не смог воспрянуть после стольких испытаний? Так сублейкоз съедает костный мозг фиброзной, ни на что не годной тканью, и организм убьёт любой пустяк. А тут ещё и спляшут на костях. Нам никогда спокойно не дадут мечтать о мире, где в почёте труд, растить сады, чтоб по весне цвели, учить детей и строить корабли. Наш дом и так был взорван и расколот. Нас будут бить наотмашь и под дых, нас будут бить за парус и за штык, за якорь и за крест, за серп и молот. Мы застим небо, как ни назови страну, простёртую на пару континентов. Мы столько раз всходили на крови. Мы знаем боль последнего момента, когда, казалось, вдребезги и вдрызг, и сразу пот и слёзы, дым и порох. Нас будут бить в любой удобный миг: как бьют в Донбассе, бьют — в домах и школах. За дедов, за отцов и матерей, за всё, что есть, за раны и мозоли, нас бьют за веком век — пойми скорей: нас будут бить, пока мы им позволим. Нас будут бить по самому больному, и нам нельзя утратить чувство дома.